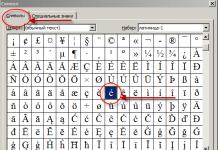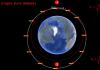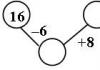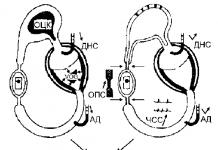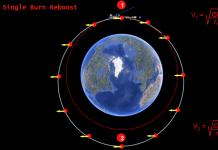Бывший гвардеец, замыв оплеуху.
Грянет ли в двери знакомое: - Ба!
Ты ли, дружище, - какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
Были мы люди, а стали людьё,
И суждено - по какому разряду? -
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.
Ноябрь 1930. Тифлис.
И по-звериному воет людьё
И по-людски куролесит зверьё.
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной,
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.
Ноябрь 1930. Тифлис.
ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! у меня еще есть адреса,
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Декабрь 1930. Ленинград.
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья -
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевой
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних - от тех европеянок нежных -
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее -
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Лэди Годива, прощай… Я не помню, Годива…
Январь 1931.
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
Январь 1931, Ленинград.
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за Твою рабу…
В Петербурге жить - словно спать в гробу.
Январь 1931.
После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет - хорошо озорует,
Любишь - не любишь: ни с чем не сравнишь…
Любишь - не любишь, поймешь - не поймаешь.
Так почему ж, как подкидыш, дрожишь?
После полуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь.
Март 1931. Москва.
Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Храп горожан
И толкотня в гардероб.
Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
С шапкой в руках, шапку в рукав -
И да хранит тебя Бог.
Март 1931. Москва.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни - шерри - бренди, -
Ангел мой.
Там, где эллину сияла
Мне из черных дыр зияла
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне - соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Строгий кукиш мне покажет
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, -
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни - шерри-бренди, -
Ангел мой.
Март 1931, Москва, Зоологич. Музей.
Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно - и все-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
Март 1931. Москва.
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, -
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, -
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Твердил он наизусть…
Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Скерцович, -
Чего там? Все равно!
Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит:
Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
А там - вороньей шубою
На вешалке висеть…
Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там! Все равно!
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину - Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.
И едва успевает грозить из дупла -
Ты как хочешь, а я не рискну!
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву Москву.
Апрель 1931
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
Захочу, - говорит, - дам еще… -
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу - куда там - в плечо
Уцепилась и тащит назад.
Тишь да глушь у нее, вошь да мша, -
Полуспаленка, полутюрьма…
Ничего, хороша, хороша…
Я и сам ведь такой же, кума.
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине ролс - ройса, за масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.
Я пью, но еще не придумал - из двух выбираю одно:
Веселое асти - спуманте иль папского замка вино.
Как парламент, жующий фронду,
За высокое племя людей
И веселья, и чести своей.
Но не волк я по крови своей,
Жаркой шубы сибирских степей.
Ни кровавых кровей в колесе,
Мне в своей первобытной красе,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Анализ: В своем творчестве Мандельштам опирается на богатые традиции мировой культуры, включая в свои произведения идеи и образы художников разных эпох и разных народов, события многовековой истории и нетленного искусства. Это было общей чертой поэзии Серебряного века. Но Мандельштам в подходе к культурно-историческому наследию отличается от многих своих современников. У Мандельштама культурно-исторические реалии вплотную приближены к современности, входят в сегодняшнюю жизнь.
Одна из его излюбленных тем - политическая. Еще со времен революции, когда Мандельштам уже был сложившимся поэтом, его волновало происходящее вокруг. Поэт готов добровольно присоединиться к усилиям тех, кто пытается двинуть человечество в новом, неведомом направлении: «Ну что ж, попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля...» Но он знает, что наступили «сумерки свободы» и «мы будем помнить и в летейской стуже, что десяти небес нам стоила земля!» В этой оде - явная готовность принять революцию, при полном сознании размеров уплаты.
Быть пассивной, безличной жертвой, «неизвестным солдатом» колеса истории Мандельштам не хотел и не мог - и вступил в беспримерный поединок со своим временем. Поэзия Мандельштама в начале 30-х годов становится поэзией вызова. Так появилось произведение «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931-35 гг.).
Стихотворение написано разностопным анапестом, это должно было сделать тон и ритм стихотворения мягким и плавным. Но перекрестная мужская рифма, а также отсутствие пиррихиев сообщает всему произведению жесткий, устойчивый ритм, который отвечает идейному содержанию.
Поэт пишет о доле благородного человека, о том, что его окружают только «трусы», «хлипкая грязца». Достаточно вспомнить, в какое время написано стихотворение, и станет все понятно. Это время радикальных чисток среди русского народа, время коллективизации, время, когда человек должен был безропотно подчиняться партии, иначе - «черный воронок». Все происходило под лозунгом «Все для коммунизма!», но под этим лозунгом скрывались не только светлые идеи, но и грязь, подлость, жестокость и глупость. Поэт пишет в первом четверостишии:
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Да, то время лишало чести, так как ради того, чтобы выжить, необходимо было «искренне» поддерживать политику, иначе, опять же, - «черный воронок». Выбор стоял между жизнью и честью. Жестокость этого выбора поэт выражает в эпитете «век-волкодав»:
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Поэт не желает делать выбора, так как понимает, насколько это глупо и нелепо. Подлость нельзя поддерживать своей жизнью. Поэтому лирический герой решает уйти от этого общества. Он согласен на ссылку:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Природа русской земли, вдали от цивилизации, а самое главное - вдали от директив партии, представляется поэту раем.
Для описания счастья свободы и того настоящего ужаса, который окружает лирического героя, автор использует прием антитезы. В третьем четверостишии первые две строки описывают окружающую реальность, вторые – недостижимый рай, природу Сибири:
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе...
Антитеза усиливается и цветовым противопоставлением: красный («кровавых кровей») и голубой («голубые песцы»). Сибирь вообще описывается поэтом в ассоциативной голубой гамме: «Енисей», «до звезды» (небо):
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает...
Последние две строки стихотворения являются как бы квинтэссенцией всего произведения. В них лирический герой не только еще раз подчеркивает свою непринадлежность к «волкам» (на тюремном жаргоне это означает «предатели»), но и указывает на то, что его «убийцам» до него не дотянуться. То есть не сломить дух героя, не заставить его стать «волком», не заставить его предать:
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет.
Размер – разн анапест
Ленинград
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорейРыбий жир ленинградских речных фонарей, Узнавай же скорее декабрьский денек,Где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург! я еще не хочу умирать!У тебя телефонов моих номера. Петербург! У меня еще есть адреса,По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в високУдаряет мне вырванный с мясом звонок, И всю ночь напролет жду гостей дорогих,Шевеля кандалами цепочек дверных.Анализ: Действительно, всего за 13 лет город, созданный Петром I, изменился до неузнаваемости, однако для Мандельштама он по-прежнему «знакомый до слез», и «рыбий жир ленинградских речных фонарей» дарит поэту давно забытое чувство умиротворения. Тем не менее, автор ощущает себя в родном городе чужестранцем, который словно бы совершил путешествие во времени, зловещее и необратимое. Обращаясь к любимому городу, поэт заявляет: «Петербург, я еще не хочу умирать». Он словно бы предвидит свою судьбу и предчувствует, что стрелка часов, именуемых жизнью, лично для него уже начала свой обратный отсчет. Цепляясь за прошлое и, вместе с тем, не видя себя в будущем, Мандельштам отмечает, что где-то в недрах города еще сохранились телефонные номера, принадлежащие поэту, а также старые адреса, по которым он может найти «мертвецов голоса» . Последнее образное выражение, к сожалению, не является преувеличением, так как большинство друзей юности автора давно уже нашли свой последний приют в болотистой питерской земле. А их квартиры, знавшие звонкий смех и жаркие споры литераторов, теперь служат пристанищем для вчерашних крестьян, которые даже понятия не имеют о том, чьи именно занимают апартаменты.
Сам же поэт утверждает: «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок». Это заявление соответствует действительности, так как семья Мандельштама действительно снимает каморку под лестницей в бывшем доходном доме на 8 линии Васильевского острова. При этом поэт опасается ареста, отмечая: «И всю ночь напролет ожидаю гостей дорогих».
Предчувствия Мандельштама не обманывают, так как спустя 3 года он первый раз будет взят под стражу, а в 1937 году вновь попадет в застенки НКВД. Но это случится в Москве, чужой и холодной. А угрюмый послереволюционный Ленинград навсегда останется для поэта самым уютным и дорогим местом на земле.
Размер – 4 анапест
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, –
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
И меня только равный убьет.
Осип Мандельштам. «За гремучую доблесть грядущих веков…» («Век-волкодав»). Читает Константин Райкин
Существовал следующий вариант начала текста этого стихотворения:
Не табачною кровью газета плюет
Не костяшками дева стучит
Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует поет говорит –
и такие варианты текста финальной строфы:
1) Уведи меня в ночь, где течет Енисей
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу
2) Уведи меня в ночь где течет Енисей
И слеза на ресницах как лед
Потому что не волк я по крови своей
И во мне человек не умрет
3) Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает
Потому что не волк я по крови своей
И неправдой искривлен мой рот.
По свидетельству Э. Г. Герштейн, финальная строка не нравилась и самому Мандельштаму: «Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может найти последнего стиха и даже склоняется к тому, чтобы отбросить его совсем». Окончательная редакция финальной строки была найдена только в конце 1935 г. в Воронеже: «И меня только равный убьет».
Домашнее название этого стихотворения – «Волк». Ср. в письме М. А. Булгакова К. С. Станиславскому от 18 марта 1931 г. (!): «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк... Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня, по всем правилам литературной садки в огороженном дворе». Ср. также запись в дневнике В. Яхонтова (июль 1931 г.): «он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван тут же, как только прочел (кажется, впервые и первым) – мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей». Когда С. Липкин сказал, что это «лучшее стихотворение двадцатого века», Мандельштам ответил: «А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном», имея в виду, возможно, совпадение с размером стихотворения Надсона «Верь, настанет пора и погибнет Ваал...». Но, скорее всего, дело было в другом. Н. Мандельштам указывает: «Про «Волка» О. М. говорил, что это вроде романса, и пробовал ввести «поющего»...».
Характерно, что, попав на Запад (одним из первых – в мемуарах С. Маковского), это стихотворение – «судя по характеру и стилю, какое-то время лишь приписывалось Мандельштаму».
Осип Эмильевич Мандельштам
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

На момент свершения Октябрьской революции Осип Мандельштам уже был полностью состоявшимся поэтом, высоко ценимым мастером. С советской властью отношения у него складывались противоречиво. Ему нравилась идея создания нового государства. Он ожидал перерождения общества, человеческой природы. Если внимательно читать мемуары жены Мандельштама, можно понять, что поэт был знаком лично со многими государственными деятелями — Бухариным, Ежовым, Дзержинским. Примечательна и резолюция Сталина на уголовном деле Осипа Эмильевича: «Изолировать, но сохранить». Тем не менее, некоторые стихотворения пропитаны неприятием методов большевиков, ненавистью к ним. Вспомнить хотя бы «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933). Из-за этого открытого высмеивания «отца народа» и его приближенных поэта сначала арестовали, а потом отправили в ссылку.

«За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931-35) — стихотворение, в некоторой степени близкое по смыслу к вышеназванному. Ключевой мотив — трагическая судьба поэта, живущего в страшную эпоху. Мандельштам называет ее «век-волкодав». Подобное именование встречается ранее в стихотворении «Век» (1922): «Век мой, зверь мой…». Лирический герой стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…» противопоставляет себя окружающей действительности. Он не желает видеть ее страшных проявлений: «трусов», «хлипкую грязцу», «кровавые крови в колесе». Возможный выход — побег от реальности. Для лирического героя спасение кроется в сибирской природе, поэтому возникает просьба: «Уведи меня в ночь, где течет Енисей».
Два раза в стихотворении повторяется важная мысль: «…не волк я по крови своей». Это отмежевание принципиально для Мандельштама. Годы, когда написано стихотворение, — время для советских жителей крайне тяжелое. Партия требовала полного подчинения. Перед некоторыми людьми ставился выбор: либо жизнь, либо честь. Кто-то становился волком, предателем, кто-то отказывался сотрудничать с системой. Лирический герой явно относит себя ко второй категории людей.
Есть еще один важный мотив — связь времен. Метафора идет от «Гамлета». В шекспировской трагедии есть строки про порванную цепь времен (в альтернативных переводах — вывихнутый или расшатанный век, порванная дней связующая нить). Мандельштам считает, что события 1917 года разрушили связь России с прошлым. В уже упомянутом стихотворении «Век» лирический герой готов пожертвовать собой, чтобы восстановить разорванные узы. В произведении «За гремучую доблесть грядущих веков…» видно намерение принять страдание ради «высокого племени людей», которым суждено жить в будущем.
Противостояние поэта и власти, как это часто бывает, закончилось победой последней. В 1938 году Мандельштама вновь арестовали.

Мандельштам после ареста в 1938 году. Фотография НКВД
Осипа Эмильевича отправили по этапу на Дальний Восток, при этом приговор был не слишком жесток по тем временам — пять лет концентрационного лагеря за контрреволюционную деятельность. 27 декабря он умер от тифа, находясь в пересыльном лагере Владперпункт (территория современного Владивостока). Поэта не хоронили вплоть до весны, как и прочих скончавшихся узников. Затем его погребли в братской могиле, местоположение которой остается неизвестным по сей день.
автор Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938)
| Из сборника «Московские стихи, 1931 » . Дата создания: март 1931 Москва, опубл.: Нью-Йорк, 1954. Источник: rvb.ru Из книги Московские стихи, 1931. In English: For the thunderous glory of ages to come (Mandelstam/Smirnov) . См. также Стихотворения . |
{{#invoke:Header|editionsList|}} |
Примечания
- «За гремучую доблесть грядущих веков...» (с. 171). - Маковский С. Портреты моих современников. Нью-Йорк, 1954, с. 398. В СССР - Пр-65, с. 60. БП, № 149. Автограф с датой «март 1931» - A3. Автограф на одном листе со ст-нием «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...» - AM. Историю становления текста см.: Семенко, с. 56 - 67, а также HM-III, с. 150 - 152. См. Приложения, Ср. вариант зачина:
Сохранившийся беловой автограф (с правкой) дает последовательность вариантов финальной строфы:
(ср. строфу 5 в ранней редакции 1; ср. также ст-ние «Неправда»).
(ср. ст-ние «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...»: «И слеза на ресницах» - вариант: «И слеза замерзает» (A3).
Ср. строфу 4 в ранней редакции 2 (переход от 2-го варианта к 3-му зафиксирован в A3). По свидетельству Э. Г. Герштейн, финальная строка не нравилась и самому Мандельштаму: «Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может найти последнего стиха и даже склоняется к тому, чтобы отбросить его совсем» (Герштейн, с. 39 - 40). Окончательная редакция финальной строки была найдена только в конце 1935 г. в Воронеже: «И меня только равный убьет». Печ. по ВС.
Домашнее название - «Волк». Ядро «волчьего цикла» (см. HM-I, с. 179 - 184 и 431 - 433). Ср. в письме М. А. Булгакова К. С. Станиславскому от 18 марта 1931 г. (!): «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк... Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня, по всем правилам литературной садки в огороженном дворе» (цит. по: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова. - Москва, 1988, № 11, с. 93). Ср. также запись в дневнике В. Яхонтова (июль 1931 г.): «он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван тут же, как только прочел (кажется, впервые и первым) - мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей» (ЦГАЛИ, ф. 2440, оп. 1, ед. хр. 45, л. 51). Когда С. Липкин сказал, что это «лучшее стихотворение двадцатого века», Мандельштам ответил: «А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном», имея в виду, возможно, совпадение с размером стихотворения Надсона «Верь, настанет пора и погибнет Ваал...» (Липкин, с. 99). Но, скорее всего, дело было в другом. «Про «Волка» О. М. говорил, что это вроде романса, и пробовал ввести «поющего»...» (HM-III, с. 150). Характерно, что,попав на Запад (одним из первых - в мемуарах С. Маковского), это ст-ние - «судя по характеру и стилю, какое-то время лишь приписывалось Мандельштаму» (см.: Мандельштам О. Собр. соч. Нью-Йорк, 1955, с. 170 и 377).