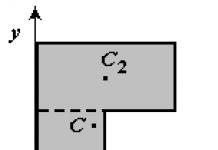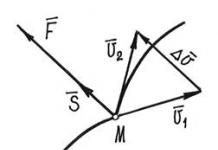Году Ходасевич с восторгом принимает Февральскую революцию и поначалу соглашается сотрудничать с большевиками после Октябрьской революции . В году выходит его сборник «Путём зерна» с одноименным заглавным стихотворением, в котором есть такие строки о 1917-м годе: «И ты, моя страна, и ты, её народ, // Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год».
Основные черты поэзии и личности
Чаще всего к Ходасевичу применяли эпитет «желчный». Максим Горький в частных беседах и письмах говорил, что именно злость - основа его поэтического дара. Все мемуаристы пишут о его жёлтом лице. Он и умирал - в нищенской больнице, в раскалённой солнцем стеклянной клетке, едва завешанной простынями, - от рака печени , мучаясь непрестанными болями. За два дня до смерти он сказал своей бывшей жене, писательнице Нине Берберовой : «Только тот мне брат, только того могу я признать человеком, кто, как я, мучился на этой койке». В этой реплике весь Ходасевич. Но, возможно, все казавшееся в нем терпким, даже жёстким, было только его литературным оружием, кованой бронёй, с которой он настоящую литературу защищал в непрерывных боях. Желчности и злобы в его душе неизмеримо меньше, чем страдания и жажды сострадания. В России XX в. трудно найти поэта, который бы так трезво, так брезгливо, с таким отвращением взирал на мир - и так строго следовал в нем своим законам, и литературным, и нравственным. «Я считаюсь злым критиком, - говорил Ходасевич. - А вот недавно произвёл я „подсчёт совести“, как перед исповедью… Да, многих бранил. Но из тех, кого бранил, ни из одного ничего не вышло».
Ходасевич конкретен, сух и немногословен. Кажется, что он говорит с усилием, нехотя разжимая губы. Как знать, может быть, краткость стихов Ходасевича, их сухой лаконизм - прямое следствие небывалой сосредоточенности, самоотдачи и ответственности. Вот одно из его самых лаконичных стихотворений:
Лоб -
Мел.
Бел
Гроб.
Спел
Поп.
Сноп
Стрел -
День
Свят!
Склеп
Слеп.
Тень -
В ад!
Сам Ходасевич различал у поэта «манеру», то есть нечто органически ему присущее от природы, и «лицо», являющееся следствием сознательного восприятия поэзии и работы над ней. Он был мастером в полном смысле слова - при том мастером классическим, стремившимся к предельной чёткости, как логической, так и ритмической и композиционной. Стиль его и поэтика были разработаны предельно, до мельчайшей чёрточки. Каждое слово у него значимо и незаменимо. Возможно, поэтому он создал немного, а в 1927 г. как поэт вообще почти замолчал, написав до смерти не больше десяти стихотворений.
Но его сухость, желчность и немногословность оставались лишь внешними. Так говорил о Ходасевиче его близкий друг Юрий Мандельштам :
На людях Ходасевич часто бывал сдержан, суховат. Любил отмалчиваться, отшучиваться. По собственному признанию -"на трагические разговоры научился молчать и шутить". Эти шутки его обычно без улыбки. Зато, когда он улыбался, улыбка заражала. Под очками «серьёзного литератора» загорались в глазах лукавые огоньки напроказничавшего мальчишки. Чужим шуткам также радовался. Смеялся, внутренне сотрясаясь: вздрагивали плечи. Схватывал налету остроту, развивал и дополнял её. Вообще остроты и шутки, даже неудачные, всегда ценил. «Без шутки нет живого дела», - говорил он не раз.
Нравились Ходасевичу и мистификации. Он восхищался неким «не пишущим литератором», мастером на такие дела. Сам он применял мистификацию, как литературный приём, через некоторое время разоблачал её. Так он написал несколько стихотворений «от чужого имени» и даже выдумал забытого поэта XVIII века Василия Травникова, сочинив за него все его стихотворения, за исключением одного («О сердце, колос пыльный»), принадлежащего перу друга Ходасевича Муни. Поэт читал о Травникове на литературном вечере и напечатал о нем исследование. Слушая читаемые Ходасевичем стихотворения, просвещённое общество испытывало и смущение, и удивление, ведь Ходасевич открыл бесценный архив крупнейшего поэта XVIII века. На статью Ходасевича появился ряд рецензий. Никто не мог и вообразить, что никакого Травникова нет на свете.
Влияние символизма на лирику Ходасевича
Неукорененность в российской почве создала особый психологический комплекс, который ощущался в поэзии Ходасевича с самой ранней поры.
Ранние стихи его позволяют говорить о том, что он прошёл выучку Брюсова , который, не признавая поэтических озарений, считал, что вдохновение должно жёстко контролироваться знанием тайн ремесла, осознанным выбором и безупречным воплощением формы, ритма, рисунка стиха. Юноша Ходасевич наблюдал расцвет символизма , он воспитался на символизме, рос под его настроениями, освещался его светом и связывается с его именами. Понятно, что молодой поэт не мог не испытывать его влияния, пусть даже ученически, подражательно. «Символизм и есть истинный реализм . И Андрей Белый , и Блок говорили о ведомой им стихии. Несомненно, если мы сегодня научились говорить о нереальных реальностях, самых реальных в действительности, то благодаря символистам» - говорил он. Ранние стихи Ходасевича символизмом пропитаны и зачастую отравлены:
Странник прошёл, опираясь на посох – Мне почему-то припомнилась ты. Едет пролётка на красных колёсах – Мне почему-то припомнилась ты. Вечером лампу зажгут в коридоре – Мне непременно припомнишься ты. Чтоб не случилось на суше, на море Или на небе, – мне вспомнишься ты.
На этом пути повторения банальностей и романтических поз, воспевания роковых женщин и адских страстей Ходасевич, с его природной желчностью и язвительностью, не избегал иногда штампов, свойственных поэзии невысокого полёта:
И снова ровен стук сердец; Кивнув, исчез недолгий пламень, И понял я, что я – мертвец, А ты лишь мой надгробный камень.
Но все же Ходасевич всегда стоял особняком. В автобиографическом фрагменте «Младенчество» 1933 г. он придаёт особое значение тому факту, что «опоздал» к расцвету символизма, «опоздал родиться», тогда как эстетика акмеизма осталась ему далёкой, а футуризм был решительно неприемлем. Действительно, родиться в тогдашней России на шесть лет позже Блока означало попасть в другую литературную эпоху.
Основные этапы творчества
Сборник «Молодость»
Первую свою книгу «Молодость» Ходасевич издал в 1908 г. в издательстве «Гриф». Так говорил он о ней позже: "Первая рецензия о моей книге запомнилась мне на всю жизнь. Я выучил её слово в слово. Начиналась она так: «Есть такая гнусная птица гриф. Питается она падалью. Недавно эта симпатичная птичка высидела новое тухлое яйцо». Хотя в целом книга была встречена доброжелательно.
В лучших стихах этой книги он заявил себя поэтом слова точного, конкретного. Впоследствии примерно так относились к поэтическому слову акмеисты, однако свойственное им упоение радостью, мужественностью, любовью совершенно чуждо Ходасевичу. Он остался стоять в стороне от всех литературных течений и направлений, сам по себе, «всех станов не боец». Ходасевич вместе с М. И. Цветаевой, как он писал «выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не примкнули, остались навек одинокими, „дикими“. Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть».
Чувство безнадёжной чужеродности в мире и непринадлежности ни к какому лагерю выражено у Ходасевича ярче, чем у кого-либо из его современников. Он не заслонялся от реальности никакой групповой философией, не отгораживался литературными манифестами, смотрел на мир трезво, холодно и сурово. И оттого чувство сиротства, одиночества, отверженности владело им уже в 1907 г.:
Кочевий скудных дети злые, Мы руки греем у костра... Молчит пустыня. В даль без звука Колючий ветер гонит прах, – И наших песен злая скука Язвя кривится на губах.
В целом, однако, «Молодость» - сборник ещё не зрелого поэта. Будущий Ходасевич угадывается здесь разве что точностью слов и выражений да скепсисом по поводу всего и вся.
Сборник «Счастливый домик»
Гораздо больше от настоящего Ходасевича - во всяком случае, от его поэтической интонации - в сборнике «Счастливый домик». Рваная, рубленая интонация, которую начинает использовать в своих стихах Ходасевич, предполагает то открытое отвращение, с которым он бросает в лицо времени эти слова. Отсюда и несколько ироническое, желчное звучание его стиха.
О скука, тощий пес, взывающий к луне! Ты – ветер времени, свистящий в уши мне!
Поэт на земле подобен певцу Орфею, вернувшемуся в опустевший мир из царства мертвых, где навсегда потерял возлюбленную - Эвридику:
И вот пою, пою с последней силой О том, что жизнь пережита вполне, Что Эвридики нет, что нет подруги милой, А глупый тигр ласкается ко мне –
Так в 1910 г., в «Возвращении Орфея», Ходасевич декларировал свою тоску по гармонии в насквозь дисгармоническом мире, который лишён всякой надежды на счастье и согласие. В стихах этого сборника слышится тоска по всепонимающему, всевидящему Богу, для которого и поет Орфей, но у него нет никакой надежды, что его земной голос будет услышан.
В «Счастливом домике» Ходасевич заплатил щедрую дань стилизации (что вообще характерно для серебряного века). Тут и отголоски греческой и римской поэзии, и строфы, которые заставляют вспомнить о романтизме XIX столетия. Но эти стилизации насыщены у него конкретными, зримыми образами, деталями. Так открывающее раздел стихотворение с характерным названием «Звезда над пальмою» 1916 г. заканчивается пронзительными строчками:
Ах, из роз люблю я сердцем лживым Только ту, что жжет огнем ревнивым, Что зубами с голубым отливом Прикусила хитрая Кармен!
Рядом с миром книжным, «вымечтанным» существует и другой, не менее милый сердцу Ходасевича - мир воспоминаний его детства. «Счастливый домик» завершается стихотворением «Рай» - о тоске по раю детскому, игрушечному, рождественскому, где счастливому ребёнку во сне при¬виделся «ангел златокрылый».
Сентиментальность вкупе с желчностью и гордой непричастностью к миру стали отличительным знаком поэзии Ходасевича и определили её своеобразие в первые послереволюционные годы.
К этому времени у Ходасевича появляется два кумира. Он говорил: «Был Пушкин и был Блок. Все остальное - между!»
Сборник «Путём зерна»
Начиная со сборника «Путём Зерна», главной темой его поэзии станет преодоление дисгармонии, по существу неустранимой. Он вводит в поэзию прозу жизни - не выразительные детали, а жизненный поток, настигающий и захлёстывающий поэта, рождающий в нем вместе с постоянными мыслями о смерти чувство «горького предсмертья». Призыв к преображению этого потока, в одних стихах заведомо утопичен («Смоленский рынок»), в других «чудо преображения» удаётся поэту («Полдень»), но оказывается кратким и временным выпадением из «этой жизни». «Путём Зерна» писался в революционные 1917-1918 гг. Ходасевич говорил: «Поэзия не есть документ эпохи, но жива только та поэзия, которая близка к эпохе. Блок это понимал и недаром призывал „слушать музыку революции“. Не в революции дело, а в музыке времени». О своей эпохе писал и Ходасевич. Рано появившиеся у поэта предчувствия ожидающих Россию потрясений побудили его с оптимизмом воспринять революцию. Он видел в ней возможность обновления народной и творческой жизни, он верил в её гуманность и антимещанский пафос, однако отрезвление пришло очень быстро. Ходасевич понимал, как затерзала, как погасила настоящую русскую литературу революция. Но он не принадлежал к тем, которые «испугались» революции. В восторге от неё он не был, но он и не «боялся» её. Сборник «Путём зерна» выражал его веру в воскресение России после революционной разрухи таким же путём, каким зерно, умирая в почве, воскресает в колосе:
Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, Но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, Оно в заветный срок умрёт и прорастёт. Так и душа моя идёт путём зерна: Сойдя во мрак, умрёт – и оживёт она. И ты, моя страна, и ты, её народ, Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год, – Затем, что мудрость нам единая дана: Всему живущему идти путём зерна.
Здесь Ходасевич уже зрелый мастер: он выработал собственный поэтический язык, а его взгляд на вещи, бесстрашно точный и болезненно сентиментальный, позволяет ему говорить о самых тонких материях, оставаясь ироничным и сдержанным. Почти все стихи этого сборника построены одинаково: нарочито приземлённо описанный эпизод - и внезапный, резкий, смещающий смысл финал. Так, в стихотворении «Обезьяна» бесконечно долгое описание душного летнего дня, шарманщика и печальной обезьянки внезапно разрешается строчкой: «В тот день была объявлена война». Это типично для Ходасевича - одной лаконической, почти телеграфной строкой вывернуть наизнанку или преобразить все стихотворение. Как только лирического героя посетило ощущение единства и братства всего живого на свете - тут же, вопреки чувству любви и сострадания, начинается самое бесчеловечное, что может произойти, и утверждается непреодолимая рознь и дисгармония в том мире, который только что на миг показался «хором светил и волн морских, ветров и сфер».
То же ощущение краха гармонии, поиск нового смысла и невозможность его (во времена исторических разломов гармония кажется утраченной навеки) становятся темой самого большого и самого, может быть, странного стихотворения в сборнике - «2 ноября» (1918 г.). Здесь описывается первый день после октябрьских боев 1917 г. в Москве. Говорится о том, как затаился город. Автор рассказывает о двух незначительных происшествиях: возвращаясь от знакомых, к которым ходил узнать, живы ли они, он видит в полуподвальном окне столяра, в соответствии с духом новой эпохи раскрашивающего красной краской только что сделанный гроб - видно, для одного из павших борцов за всеобщее счастье. Автор пристально вглядывается в мальчика, «лет четырёх бутуза», который сидит «среди Москвы, страдающей, растерзанной и падшей», - и улыбается самому себе, своей тайной мысли, тихо зреющей под безбровым лбом. Единственный, кто выглядит счастливо и умиротворённо в Москве 1917 г., - четырёхлетний мальчик. Только дети с их наивностью да фанатики с их нерассуждающей идейностью могут быть веселы в эти дни. "Впервые в жизни, - говорит Ходасевич, - «ни „Моцарт и Сальери“, ни „Цыганы“ в тот день моей не утолили жажды». Признание страшное, особенно в устах Ходасевича, всегда Пушкина боготворившего. Даже всеобъемлющий Пушкин не помогает вместить потрясения нового времени. Трезвый ум Ходасевича временами впадает в отупение, в оцепенение, машинально фиксирует события, но душа никак не отзывается на них. Таково стихотворение «Старуха» 1919 г.:
Лёгкий труп, окоченелый, Простыней покрывши белой, В тех же саночках, без гроба, Милицейский увезёт, Растолкав плечом народ. Неречист и хладнокровен Будет он, – а пару брёвен, Что везла она в свой дом, Мы в печи своей сожжём.
В этом стихотворении герой уже вполне вписан в новую реальность: «милицейский» не вызывает у него страха, а собственная готовность обобрать труп - жгучего стыда. Душа Ходасевича плачет над кровавым распадом привычного мира, над разрушением морали и культуры. Но поскольку поэт следует «путём зерна», то есть принимает жизнь как нечто не зависящее от его желаний, во всем пытается увидеть высший смысл, то и не протестует и не отрекается от Бога. У него и прежде было не самое лестное мнение о мире. И он полагает, что в грянувшей буре должен быть высший смысл, которого доискивался и Блок, призывавший «слушать музыку революции». Не случайно свой следующий сборник Ходасевич открывает стихотворением «Музыка» 1920 г.:
И музыка идёт как будто сверху. Виолончель... и арфы, может быть... ...А небо Такое же высокое, и так же В нем ангелы пернатые сияют.
Эту музыку «совсем уж ясно» слы¬шит герой Ходасевича, когда колет дрова (занятие столь прозаическое, столь естественное для тех лет, что услышать в нем какую-то особую музыку можно было, лишь увидев в этой колке дров, в разрухе и катастрофе некий таинственный промысел Божий и непостижимую логику). Олицетворением такого промысла для символистов всегда была музыка, ничего не объясняющая логически, но преодолевающая хаос, а подчас и в самом хаосе обнаруживающая смысл и соразмерность. Пернатые ангелы, сияющие в морозном небе, - вот правда страдания и мужества, открывшаяся Ходасевичу, и с высоты этой Божественной музыки он уже не презирает, а жалеет всех, кто её не слышит.
Сборник «Тяжёлая лира»
В этот период поэзия Ходасевича начинает все больше приобретать характер классицизма. Стиль Ходасевича связан со стилем Пушкина. Но классицизм его - вторичного порядка, ибо родился не в пушкинскую эпоху и не в пушкинском мире. Ходасевич вышел из символизма. А к классицизму он пробился через все символические туманы, не говоря уже о советской эпохе. Все это объясняет техническое его пристрастие к «прозе в жизни и в стихах», как противовесу зыбкости и неточности поэтических «красот» тех времён.
И каждый стих гоня сквозь прозу, Вывихивая каждую строку, Привил-таки классическую розу К советскому дичку.
В то же время из его поэзии начинает исчезать лиризм, как явный, так и скрытый. Ему Ходасевич не захотел дать власти над собою, над стихом. Лёгкому дыханию лирики предпочел он другой, «тяжёлый дар».
И кто-то тяжелую лиру Мне в руки сквозь ветер даёт. И нет штукатурного неба, И солнце в шестнадцать свечей. На гладкие черные скалы Стопы опирает – Орфей.
В этом сборнике появляется образ души. Путь Ходасевича лежит не через «душевность», а через уничтожение, преодоление и преображение. Душа, «светлая Психея», для него - вне подлинного бытия, чтобы приблизиться к нему, она должна стать «духом», родить в себе дух. Различие психологического и онтологического начала редко более заметно, чем в стихах Ходасевича. Душа сама по себе не способна его пленить и заворожить.
И как мне не любить себя, Сосуд непрочный, некрасивый, Но драгоценный и счастливый Тем, что вмещает он – тебя?
Но в том-то и дело, что «простая душа» даже не понимает, за что её любит поэт.
И от беды моей не больно ей, И ей не внятен стон моих страстей.
Она ограничена собою, чужда миру и даже её обладателю. Правда, в ней спит дух, но он ещё не рождён. Поэт ощущает в себе присутствие этого начала, соединяющего его с жизнью и с миром.
Поэт-человек изнемогает вместе с Психеей в ожидании благодати, но благодать не даётся даром. Человек в этом стремлении, в этой борьбе осуждён на гибель.
Пока вся кровь не выступит из пор, Пока не выплачешь земные очи – Не станешь духом…
За редким исключением гибель - преображение Психеи - есть и реальная смерть человека. Ходасевич в иных стихах даже зовёт её, как освобождение, и даже готов «пырнуть ножом» другого, чтобы помочь ему. И девушке из берлинского трактира шлёт он пожелание - «злодею попасться в пустынной роще вечерком». В другие минуты и смерть ему не представляяется выходом, она лишь - новое и жесточайшее испытание, последний искус. Но и искус этот он принимает, не ища спасения. Поэзия ведёт к смерти и лишь сквозь смерть - к подлинному рождению. В этом онтологическая правда для Ходасевича. Преодоление реальности становится главной темой сборника «Тяжёлая лира».
Перешагни, перескочи, Перелети, пере- что хочешь – Но вырвись: камнем из пращи, Звездой, сорвавшейся в ночи... Сам затерял – теперь ищи... Бог знает, что себе бормочешь, Ища пенсне или ключи.
Приведённые семь строк насыщены сложными смыслами. Здесь издевка над будничной, новой ролью поэта: это уже не Орфей, а скорее городской сумасшедший, что-то бормочущий себе под нос у запертой двери. Но «Сам затерял - теперь ищи…» - строчка явно не только о ключах или пенсне в прямом смысле. Найти ключ к новому миру, то есть понять новую реальность, можно, только вырвавшись из неё, преодолев её притяжение.
Зрелый Ходасевич смотрит на вещи словно сверху, во всяком случае - извне. Безнадёжно чужой в этом мире, он и не желает в него вписываться. В стихотворении «В заседании» 1921 г. лирический герой пытается заснуть, чтобы снова увидеть в Петровском-Разумовском (там прошло детство поэта) «пар над зеркалом пруда», - хотя бы во сне встретиться с ушедшим миром.
Но не просто бегством от реальности, а прямым отрицанием её отзываются стихи Ходасевича конца 10-х - начала 20-х гг. Конфликт быта и бытия, духа и плоти приобретает небывалую прежде остроту. Как в стихотворении «Из дневника» 1921 г.:
Мне каждый звук терзает слух И каждый луч глазам несносен. Прорезываться начал дух, Как зуб из-под припухших десен. Прорежется – и сбросит прочь. Изношенную оболочку, Тысячеокий, – канет в ночь, Не в эту серенькую ночку. А я останусь тут лежать – Банкир, заколотый опашем, – Руками рану зажимать, Кричать и биться в мире вашем.
Ходасевич видит вещи такими, каковы они есть. Без всяких иллюзий. Не случайно именно ему принадлежит самый беспощадный автопортрет в русской поэзии:
Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея?
Естественная смена образов - чистого ребёнка, пылкого юноши и сегодняшнего, «желто-серого, полуседого» - для Ходасевича следствие трагической расколотости и ничем не компенсируемой душевной растраты, тоска о цельности звучит в этом стихотворении как нигде в его поэзии. «Все, что так нежно ненавижу и так язвительно люблю» - вот важный мотив «Тяжёлой лиры». Но «тяжесть» не единственное ключевое слово этой книги. Есть здесь и моцартовская лёгкость кратких стихов, с пластической точностью, единственным штрихом дающих картины послереволюционного, прозрачного и призрачного, разрушающегося Петербурга. Город пустынен. Но видны тайные пружины мира, тайный смысл бытия и, главное, слышна Божественная музыка.
О, косная, нищая скудость Безвыходной жизни моей! Кому мне поведать, как жалко Себя и всех этих вещей? И я начинаю качаться, Колени обнявши свои, И вдруг начинаю стихами С собой говорить в забытьи. Бессвязные, страстные речи! Нельзя в них понять ничего, Но звуки правдивее смысла, И слово сильнее всего. И музыка, музыка, музыка Вплетается в пенье мое, И узкое, узкое, узкое Пронзает меня лезвие.
Звуки правдивее смысла - вот манифест поздней поэзии Ходасевича, которая, впрочем, не перестаёт быть рассудочно-чёткой и почти всегда сюжетной. Ничего темного, гадательного, произвольного. Но Ходасевич уверен, что музыка стиха важнее, значимее, наконец, достовернее его грубого одномерного смысла. Стихи Ходасевича в этот период оркестрованы очень богато, в них много воздуха, много гласных, есть чёткий и лёгкий ритм - так может говорить о себе и мире человек, «в Божьи бездны соскользнувший». Стилистических красот, столь любимых символистами, тут нет, слова самые простые, но какой музыкальный, какой чистый и лёгкий звук! По-прежнему верный классической традиции, Ходасевич смело вводит в стихи и неологизмы и жаргон. Как спокойно говорит поэт о вещах невыносимых, немыслимых - и, несмотря ни на что, какая радость в этих строчках:
Ни жить, ни петь почти не стоит: В непрочной грубости живём. Портной тачает, плотник строит: Швы расползутся, рухнет дом. И лишь порой сквозь это тленье Вдруг умилённо слышу я В нем заключённое биенье Совсем иного бытия. Так, провождая жизни скуку, Любовно женщина кладёт Свою взволнованную руку На грузно пухнущий живот.
Образ беременной женщины (как и образ кормилицы) часто встречается в поэзии Ходасевича. Это не только символ живой и естественной связи с корнями, но и символический образ эпохи, вынашивающей будущее. «А небо будущим беременно», - писал примерно в то же время Мандельштам. Самое страшное, что «беременность» первых двадцати бурных лет страшного века разрешилась не светлым будущим, а кровавой катастрофой, за которой последовали годы НЭПа - процветание торгашей. Ходасевич понял это раньше многих:
Довольно! Красоты не надо! Не стоит песен подлый мир... И Революции не надо! Её рассеянная рать Одной венчается наградой, Одной свободой – торговать. Вотще на площади пророчит Гармонии голодный сын: Благих вестей его не хочет Благополучный гражданин...»
Тогда же Ходасевич делает вывод о своей принципиальной неслиянности с чернью:
Люблю людей, люблю природу, Но не люблю ходить гулять И твёрдо знаю, что народу Моих творений не понять.
Впрочем, чернью Ходасевич считал лишь тех, кто тщится «разбираться в поэзии» и распоряжаться ею, тех, кто присваивает себе право говорить от имени народа, тех, кто его именем хочет править музыкой. Собственно народ он воспринимал иначе - с любовью и благодарностью.
Цикл «Европейская ночь»
Несмотря на это в эмигрантской среде Ходасевич долгое время ощущал себя таким же чужаком, как на оставленной родине. Вот что говорил он об эмигрантской поэзии: «Сегодняшнее положение поэзии тяжко. Конечно, поэзия и есть восторг. Здесь же у нас восторга мало, потому что нет действия. Молодая эмигрантская поэзия все жалуется на скуку - это потому, что она не дома, живёт в чужом месте, она очутилась вне пространства - а потому и вне времени. Дело эмигрантской поэзии по внешности очень неблагодарное, потому что кажется консервативным. Большевики стремятся к изничтожению духовного строя, присущего русской литературе. Задача эмигрантской литературы сохранить этот строй. Эта задача столь же литературная, как и политическая. Требовать, чтобы эмигрантские поэты писали стихи на политические темы, - конечно, вздор. Но должно требовать, чтобы их творчество имело русское лицо. Нерусской поэзии нет и не будет места ни в русской литературе, ни в самой будущей России. Роль эмигрантской литературы - соединить прежнее с будущим. Надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и - в новой форме - будущим».
Тема «сумерек Европы», пережившей крушение цивилизации, создававшейся веками, а вслед за этим - агрессию пошлости и обезличенности, главенствует в поэзии Ходасевича эмигрантского периода. Стихи «Европейской ночи» окрашены в мрачные тона, в них господствует даже не проза, а низ и подполье жизни. Ходасевич пытается проникнуть в «чужую жизнь», жизнь «маленького человека» Европы, но глухая стена непонимания, символизирующего не социальную, а общую бессмысленность жизни отторгает поэта. «Европейская ночь» - опыт дыхания в безвоздушном пространстве, стихи, написанные уже почти без расчёта на аудиторию, на отклик, на сотворчество. Это было для Ходасевича тем более невыносимо, что из России он уезжал признанным поэтом, и признание к нему пришло с опозданием, как раз накануне отъезда. Уезжал в зените славы, твёрдо надеясь вернуться, но уже через год понял, что возвращаться будет некуда (это ощущение лучше всего сформулировано Мариной Цветаевой: «…можно ли вернуться в дом, который - срыт?»). Впрочем, ещё перед отъездом написал:
А я с собой свою Россию В дорожном уношу мешке
(речь шла о восьми томиках Пушкина). Быть может, изгнание для Ходасевича было не так трагично, как для других, - потому что он был чужаком, а молодость одинаково невозвратима и в России, и в Европе. Но в голодной и нищей России - в её живой литературной среде - была музыка. Здесь музыки не было. В Европе царила ночь. Пошлость, разочарование и отчаяние были ещё очевиднее. Если в России пусть на какое-то время могло померещиться, что «небо будущим беременно», то в Европе надежд никаких не было - полный мрак, в котором речь звучит без отклика, сама для себя.
Муза Ходасевича сочувствует всем несчастным, обездоленным, обречённым - он и сам один из них. Калек и нищих в его стихах становится больше и больше. Хотя в самом главном они не слишком отличаются от благополучных и процветающих европейцев: все здесь обречены, все обречено. Какая разница - духовное, физическое ли увечье поразило окружающих.
Ходасевич, Владислав Фелицианович – поэт (28.5. 1886, Москва – 14.6.1939, Бийянкур, под Парижем). Родился в семье польского художника, мать – еврейка. Высшее образование Ходасевич получал в Москве. Его первые сборники стихов Молодость (1908) и Счастливый домик (1914) обратили на себя внимание Николая Гумилева , в основном со стороны композиции. Творчество Ходасевича, не примыкавшего ни к символистам , ни к акмеистам , не нашло широкого отклика.
Владислав Ходасевич. Документальный фильм
Он выступал с критическими работами. В 1918-19 преподавал в Москве в студии Пролеткульта . В 1920-22 жил в Петрограде. Из напечатанных в России сборников стихов Ходасевича наиболее значительным является Путем зерна (1920), здесь он высказывает надежду на возрождение России после гибели ее в революции .
В 1922 Ходасевич вместе с женой, писательницей Н. Берберовой эмигрировал в Берлин. Там он издал антологию еврейской поэзии в собственных переводах и опубликовал небольшой, но существенный сборник своих стихов Тяжелая лира (1923). Затем он переехал в Париж. Единственный вышедший здесь сборник стихов Ходасевича Собрание стихо в (1927) включает его последнюю подборку из 26 стихотворений, написанных им между 1922 и 1926 и объединенных под названием Европейская ночь . В 1927 Ходасевич стал ведущим литературным критиком журнала «Возрождение» и со свойственной ему скептической рассудительностью вступал в существенную полемику с другими критиками-эмигрантами, например, Адамовичем.
В это время он написал очень мало стихов, возможно, что некоторые из них находились в архиве, изъятом во время немецкой оккупации, когда была арестована и вторая жена Ходасевича (с 1933), еврейка Ольга Марголина, погибшая в концлагере . В СССР в 1963 были напечатаны лишь немногие из стихотворений Ходасевича, категорически отвергавшего советскую систему, но подборки его стихов ходили в Самиздате .
Ходасевич – значительный поэт, писавший в стиле классической пушкинской выучки. «Он один из самых скупых и строгих к себе поэтов в русской литературе» (Н. Струве). Некоторые его произведения говорят о нужде и голоде революционных лет, но в целом он не реагирует непосредственно на переживания и события в мире. Мир для него означает стесненность, чуждость, «тихий ад», которым мучается первоначально свободная душа. При этом земное существование он постоянно включает в цикл многократных повторных воплощений – очевидно, под влиянием антропософии, как
1. Первые поэтические опыты.
2. Основные черты лирики Ходасевича.
3. «Путем зерна» и «Тяжелая лира».
4. Творчество в эмиграции.
«Слово сильнее всего», говорит Ходасевич, и оно для него — священное средство освобождения: чудо вдохновения для Ходасевича прежде всего чудо духовного роста.
С. Я. Парнок
В. Ф. Ходасевич родился в Москве в 1886 году, в семье художника и фотографа из обедневших литовских дворян, которому посчастливилось запечатлеть для истории самого Л. Н. Толстого. Мать Ходасевича была дочерью известного литератора Я. А. Брафмана. В семье росло пять братьев и две сестры. Мальчик еще в раннем возрасте начал писать стихи - ему было шесть лет. Вскоре он понял, что это - его призвание. Вспоминают смешной случай, произошедший с поэтом в детстве - гостя в семилетнем возрасте летом у дяди на даче, он узнал, что рядом живет поэт А. Н. Майков. Ходасевич отправился к нему, познакомился с поэтом и с выражением читал его стихи. С тех пор он гордо. считал себя знакомым поэта Майкова.
Самый младший и любимый ребенок, он рано научился читать. Образование он получил в московской гимназии, где приятельствовал с братом В. Я. Брюсова, Александром. Затем учился на юридическом факультете Московского университета, на историко-филологическом факультете, но университет не закончил. В восемнадцать лет Ходасевич женился на М. Э. Рындиной, эффектной девушке из богатой семьи. В 1905 году его стихи впервые взяли в печать, и вскоре вышел сборник стихотворений «Молодость» (1908), в котором были излиты его чувства к жене. Судя по стихам, эту любовь нельзя было назвать взаимной.
Протянулись дни мои,
Без любви, без сил, без жалобы...
Если б плакать - слез не стало бы.
Протянулись дни мои.
Оглушенный тишиной,
Слышу лет мышей летучих,
Слышу шелест лап паучьих
За моей спиной.
Уже в этом сборнике были видны основные свойства поэзии Ходасевича - точность, ясность, чистота языка, классическая традиционная стихотворная форма. Критики выделили его из массы поэтов и заключили, что в будущем от него можно ожидать многого. Круг его общения составляли в то время В. Я. Брюсов, А. Белый, Эллис. Разведясь с женой в конце 1907 года, она вышла замуж за С. К. Маковского, издателя журнала «Аполлон», - Ходасевич поселился в меблированных номерах. В 1910 году он уехал в Венецию, работал там, проводя экскурсии по музеям и церквям, вернулся с новыми стихами. Многие из них чуть позже, в 1914 году, вошли во второй сборник стихов «Счастливый домик».
Взгляни, как наша ночь пуста и молчалива:
Осенних звезд задумчивая сеть
Зовет спокойно жить и мудро умереть,
Легко сойти с последнего обрыва
В долину кроткую.
Два первых сборника поэта принято относить к декадентской лирике, они были отмечены особым вниманием со стороны акмеистов. Своим главным учителем Ходасевич считал А. А. Блока. Блок и Белый определили его литературную стезю, как и судьбы многих других молодых поэтов. В ранних сборниках Ходасевича явно прослеживается влияние блоковских стихов о Прекрасной Даме.
Поэт встречает вторую спутницу жизни, Анну, бывшую жену своего товарища А. Я. Брюсова. Тогда же выходит первая работа об А. С. Пушкине - «Первый шаг Пушкина» - начало его пушкинианы, темы всей его жизни. «Он любил Пушкина как живого человека, и ему доставляла огромное наслаждение каждая строчка, каждое слово и малейшее переживание Пушкина», - вспоминала его супруга А. И. Чулкова. Владислав Ходасевич становится профессиональным литератором. Одна за другой выходят его литературоведческие работы - «Русская поэзия» (1914), «Игорь Северянин и футуризм» (1914), «Обманутые надежды» (1915), «Петербургские повести Пушкина» (1915), «Державин» (1916), «О новых стихах» (1916), «О «Гавриилиаде»» (1918).
Ходасевич работает в издательстве «Польза», выполняя переводы польских авторов - А. Мицкевича, В. Реймонта, С. Пшибышевского. Посещает литературный кружок Брюсова, где собираются символисты, также бывает на «средах» реалистического направления у Н. Д. Телешева. Проявляя интерес ко многим литературным группам,- Ходасевич всегда держался особняком. Поэт много публикуется в антологии издательства «Мусагет», в журналах «Русская мысль», «Аполлон», «Северные записки», «Гриф».
Революцию - и Февральскую, и Октябрьскую - Ходасевич принял с радостью, вступил в Союз писателей, участвовал в революционных печатных изданиях, сотрудничал с большевиками, несмотря на неодобрение многих коллег. Вскоре поэт прозрел и изменил свое отношение к новому строю на противоположное, он не питал иллюзий. Им овладевает мизантропия, хочется убежать от действительности, но куда? 1920 год ознаменовался для Владислава Фелициановича выходом книги «Путем зерна», третьего сборника стихов, посвященного памяти С. В. Киссина, трагически умершего мужа сестры Ходасевича, единственного его близкого друга. Эта книга поставила его в один ряд с широко известными современниками. Главная мысль сборника заключена в одноименном стихотворении: Россия умрет и воскреснет так же, как прорастает в земле зерно.
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет - и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год,
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
Весь пафос своего творчества поэт выразил в четырех строчках:
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье...
Этот постреволюционный сборник исследователи считают важнейшим в творчестве Ходасевича. В нем поэт, оставаясь «за текстом» оценивает происходящее с точки зрения истории, приподнимаясь над временем, размышляя о закономерностях развития общества, анализируя социальные и моральные проблемы.
Образ дома проходит через все творчество поэта, начиная с первых сборников, и заканчивая темой бездомности, одиночества в эмиграции. Дом-очаг из «Счастливого домика», дом-род в сборнике «Путем зерна» позже превращается в «карточный» в «Тяжелой лире». Непрочность окружающего мира, разрушение - лейтмотив творчества поэта. «Тяжелая лира» (1922) - последний сборник стихотворений Ходасевича, выпущенный до эмиграции. Автор назвал эту книгу итоговой поэтической работой. В нем доминирует тема крушения иллюзорного счастья, недолговечности мира в результате вмешательства людей. Очередная смена ориентиров и ценностей ведет к разрушению. Еще раз мы замечаем, что Ходасевич не питал иллюзий по отношению к людям и скептически смотрел на жизнь.
Со своей третьей женой Н. Н. Берберовой Ходасевич эмигрировал в Латвию, Германию, Италию. Третий брак его просуществовал около десяти лег. За границей Ходасевич под опекой М. Горького редактирует журнал «Беседа», в 1925 году навсегда переезжает в Париж, работает как прозаик, мемуарист, литературовед (пишет книги «Державин. Биография», «О Пушкине». «Некрополь. Воспоминания», «Кровавая пища», «Литература в изгнании», «Пан Тадеуш». Это лучшие художественные биографии. Политические взгляды Ходасевича с 1925 года - на стороне белоэмигрантов. Он критикует советский строй и западное мещанство. Жизнь Ходасевича в эмиграции, как и других его соотечественников, протекала в нужде. Он болеет, но не перестает много работать. Благодаря мемуарам и критике Ходасевича теперь мы узнаем больше о его знаменитых современниках - М. Горьком, А. А. Блоке, А. Белом, Н. С. Гумилеве, В. Я. Брюсове.
В 1926 году он прекращает печататься в газете «Последние новости». Спустя год Ходасевич выпускает цикл «Европейская ночь». Постепенно стихи исчезают из его творчества, сменяясь критикой, полемикой с Г. В. Адамовичем в эмигрантских изданиях. В 30-х годах Ходасевича настигает разочарование во всем - в литературе, политической жизни эмиграции, в СССР - он отказывается возвращаться на родину. В эмиграции он женится еще раз. Четвертая жена Ходасевича, еврейка, погибла в концентрационном лагере. Сам он умер раньше, чем началась война, в 1939 году, в парижской больнице для бедных, после тяжелой операции. В год смерти вышел его «Некрополь» - лучшая, по мнению критиков, мемуаристика в русской литературе.
Происхождение Ходасевича
Его дед по отцовской линии Я. И. Ходасевич был польским дворянином, происходившим из Литвы, участником польского восстания 1830 г. За участие в восстании он был лишен дворянства, земли и имущества. Поэтому отец поэта начал свою жизнь, по словам сына, «в бедной, бедной семье». «Веселый и нищий художник», он расписал множество «польских и русских церквей», а затем, расставшись с карьерой живописца, открыл фотографию сначала в Туле, затем в Москве, куда семья будущего поэта перебралась в 1902 году. Мать Ходасевича София Яковлевна была дочерью известного в свое время публициста Я. А. Брафмана (еврея по происхождению, перешедшего из иудаизма в православие и издавшего две книги — «Книга Кагала» и «Еврейские братства»,— направленные против иудаизма, они помогли ему стать членом Императорского географического общества).
Влияние матери и кормилицы
Мать старалась приобщить сына к польскому языку и к начаткам католической веры, но сын ее рано почувствовал себя русским и навсегда сохранил глубокую преданность русскому языку и культуре. И хотя впоследствии Ходасевич в качестве переводчика сделал немало для приобщения русских читателей своего времени к творчеству А. Мицкевича, 3. Красиньского, К. Тетмайера, Г. Сенкевича, К. Макушиньского, а также к стихам еврейских поэтов, писавших на иврите (С. Черняховского, X. Бялика, Д. Шимановича, 3. Шнеура и др.; наряду с поэтами Финляндии, Латвии и Армении Ходасевич переводил их стихи по подстрочникам, не зная еврейского языка), он с первых лет и до конца жизни ощущал себя глубоко русским человеком, кровно связанным с русской национальной культурой и ее историческими судьбами.
Ощущение одухотворившей его жизнь и поэзию светлой — и в то же время страдальческой, мучительной — любви к России Ходасевич выразил с особой силой в замечательном стихотворении 1917—1922 годов, посвященного его кормилице — тульской крестьянке Елене Александровне Кузиной, умершей, когда поэту было 14 лет (вспоминая ее с целью навсегда воздвигнуть ей поэтический памятник, Ходасевич несомненно проводил мысленно параллель между ролью ее в его жизни и ролью Арины Родионовны в жизни своего любимого поэта А. С. Пушкина, на всю жизнь оставшегося его учителем — наряду с Державиным, Баратынским и Тютчевым,- тремя поэтами, которых Ходасевич так же, как Пушкина, ощущал наиболее близкими себе по духу и свойствам своего поэтического дара).
Детство и юность Ходасевича
Детство Ходасевича и вся первая половина его жизни до 1920 г. связаны с Москвой. Здесь после раннего увлечения балетом и драматическим театром совершается его поэтическое становление, первые стихи он написал шести лет, зимой 1892 — 1893 гг., еще до гимназии. Вскоре в Третьей московской гимназии, куда будущий поэт поступил в 1896 г., он оказался в одном классе с А. Я. Брюсовым — братом уже известного в то время «мэтра» русского символизма. В гимназии Ходасевич сближается с В. Гофманом (тоже будущим поэтом-символистом) - их связывают общие поэтические интересы. К 1903 г. относится заметка Ходасевича о себе: «Стихи навсегда». В это же время Ходасевич переживает и первое серьезное любовное увлечение. Его поэтические кумиры этих лет — К. Д. Бальмонт и В. Я. Брюсов (с последним он познакомился в 1902 г., а в 1903 г. присутствовал на его докладе о Фете в Московском Литературно-художественном кружке).
По окончании гимназии Ходасевич с 1904 г. слушает лекции на юридическом факультете Московского университета. Но вскоре, в 1905 г., переводится на историко-филологический факультет, затем — из-за безденежья — покидает его. Позднее, осенью 1910 г., юноша предпринимает снова попытку восстановиться на юридическом факультете. Но через год забирает из университета документы, решив окончательно избрать трудную жизнь писателя-профессионала, живущего литературным заработком поэта, критика и переводчика.
Первые стихотворения, «Молодость»
В 1905 г. в символическом альманахе «Гриф» (издателем которого был С. А. Соколов-Кречетов) появились первые три стихотворения Ходасевича, одобренные издателем альманаха. В этом же году Ходасевич женится на московской красавице М. Э. Рындиной, которой посвящена его первая юношеская книга стихов «Молодость» (1908). Еще до ее выхода брак с М. Э. Рындиной распался.
Игра в карты и любовные увлечения
Параллельно с писанием и печатанием стихов Ходасевич с 1905 г. интенсивно работает как критик и рецензент. Жизнь его в эти и последующие (1906— 1910) годы носит в значительной мере богемный характер: он много пьет и страстно увлекается игрой в карты. Впоследствии Ходасевич писал о своем увлечении картами, сохранившемся до конца жизни: «...азартная игра совершенно подобна поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства». Переживает Ходасевич и ряд любовных увлечений: А. Тарновской, Н. И. Петровской, Е. В. Муратовой, А. И. Гренцион (младшей сестрой поэта Г. И. Чулкова, ставшей с 1911 г. второй женой и спутницей поэта). Недолгая дружба с В. Гофманом сменяется сближением в 1907 г. с самым дорогим Ходасевичу другом и литературным соратником — С. В. Киссиным (Муни), раннюю смерть которого (в 1916 г.) поэт болезненно переживал долгие годы.
«Счастливый домик»
В 1914 г. с посвящением А. И. Ходасевич выходит второй его поэтический сборник «Счастливый домик». И «Молодость», и «Счастливый домик» были изданы небольшим тиражом. Впоследствии Ходасевич считал обе эти книги незрелыми, юношескими и не включил их в единственное составленное им прижизненное издание стихотворений, вышедшее в 1927 г. в Париже. Тем не менее поэт проводил между ними и определенное различие: стихотворения, вошедшие в сборник «Молодость», ни разу не переиздавались им, «Счастливый домик» же выдержал при жизни автора три издания.
Первые послереволюционные годы
События Февральской и Октябрьской революций Ходасевич пережил в Москве. С Октябрьской революцией он вначале, подобно Блоку, связывает серьезные надежды. 1916 г. оказался в личной судьбе поэта очень плохим: в этом году покончил самоубийством его друг Муни, а сам он заболел туберкулезом позвоночника и должен был на время облечься в гипсовый корсет. В следующие годы на Ходасевича обрушились голод и нужда — сначала в послереволюционной Москве, а затем в Петрограде, куда он перебрался с женой в начале 1921 г. В Москве в 1918 г. Ходасевич работает в театрально-музыкальной секции Московского совета, затем — в театральном отделе Наркомпроса (ТЕО), читает лекции о Пушкине в московском Пролеткульте. Он затевает вместе с П. П. Муратовым и книжную лавку писателей, для продажи в которой московские литераторы (в том числе сам Ходасевич) изготовляют также рукописные сборники своих произведений. С конца года (до лета 1920 г.) поэт возглавляет московское отделение основанного М. Горьким издательства «Всемирная литература». Весь этот период жизни Ходасевича описан в его позднейших воспоминаниях «Законодатель», «Пролеткульт», «Книжная лавка», «Белый коридор», «Здравница» и др.
Переезд в Петроград
Переехав в Петроград, Ходасевич поселяется в «Доме искусств», где ютилась в первые послереволюционные годы петроградская литературно-художественная интеллигенция (этому периоду жизни поэта посвящен мемуарный очерк «Дом искусства» и ряд других страниц его литературных воспоминаний). В феврале 1921 г. Ходасевич произносит (на одном вечере с Блоком) знаменитую пушкинскую речь «Колеблемый треножник», полную мрачных предчувствий о судьбах русской литературы в условиях возникающей новой советской действительности. Конец лета он проводит в летней колонии Дома искусств «Вельском уезде» (в Псковской губернии), созданной для отдыха «измученных н отощавших» (по его выражению) от голода и нужды петроградских литераторов.
Эмиграция в Берлин
22 июня 1922 г. Ходасевич вместе с поэтессой Ниной Берберовой, ставшей его гражданской женой, покидает Россию. Через Ригу они направляются в Берлин. Как позднее выяснилось, отъезд Ходасевича предупредил его готовившееся изгнание: имя его было включено в список тех видных представителей дореволюционной русской интеллигенции, которые осенью 1922 г. были высланы из России. Еще в 1916 -1917 годах Ходасевич принял участие в организованных В. Брюсовым и М. Горьким сборниках русских переводов армянских, латышских и финских поэтов.
Дружба с М. Горьким
В 1918 г., после организации «Всемирной литературы» в Петрограде происходит личное знакомство Ходасевича с Горьким. После переезда в Петроград их житейские и дружеские связи укрепляются, а с 1921 г., несмотря на «разницу... литературных мнений и возрастов», знакомство их переходит в тесную дружбу. В сближении обоих писателей сыграли роль дружеские отношения Горького с племянницей поэта — художницей В. М. Ходасевич, которая с 1921 г. жила в густонаселенной квартире Горького на Кронверкском проспекте в Петрограде. Оказавшись в Берлине, Ходасевич пишет Горькому, который уговорил поэта поселиться в городке Саарове, где они в постоянном общении прожили до середины лета 1923 г. В ноябре того же года они снова съехались в Праге, откуда переехали в Мариенбад. В марте 1924 г. Ходасевич и Берберова направились в Италию — в Венецию, Рим и Турин, затем в августе перебрались в Париж, а оттуда в Лондон и Белфаст (в Ирландии). Наконец, в начале октября того же 1924 г. они вернулись в Италию и в Сорренто прожили вместе с Горьким на его вилле «Il Sorito» до 18 апреля 1925 г.,— дня, когда Ходасевич и Горький расстались навсегда.
Период 1921 — 1925 гг.— время постоянного общения и живого обмена мнениями между Горьким и Ходасевичем. В 1923 — 1925 гг. они вместе с А. Белым организуют в Берлине журнал «Беседа», который, по их замыслу, должен был объединить на своих страницах писателей Советской России и Запада. Но журнал не был допущен к распространению в СССР, и после выхода семи книжек издание его пришлось прекратить. В письмах 1922—1925 гг. Горький многократно высоко отзывается о таланте Ходасевича, называет его «поэтом-классиком», «лучшим поэтом современной России», который «пишет совершенно изумительные стихи».
Разрыв с Горьким и Белым
1922 — 1923 гг. — также и годы апогея дружбы Ходасевича и А. Белого, который в это время, подобно Ходасевичу, принадлежал к обитателям «русского Берлина». Однако в 1923 г. между старшим и младшим поэтом происходит разрыв. А в 1925 г. аналогичный разрыв венчает долгие годы близости между Ходасевичем и Горьким, который упрекает Ходасевича в том, что он «неоправданно зол» и «делает из своей злобы — ремесло». Подробно о своей дружбе и разрыве с Горьким и А. Белым и о причинах этого разрыва Ходасевич рассказал в воспоминаниях о них, вошедших в книгу «Некрополь». Основной причиной разрыва было возвращение А. Белого в Россию и нежелание Горького признать свое тогдашнее фактическое положение эмигранта, надежды его, укреплявшиеся Е. П. Пешковой и М. Будберг, на возможное примирение с официальной советской общественностью, с которой Ходасевич к этому времени окончательно порвал. Приняв в 1917 г. Октябрь и сравнительно легко примирившись с лишениями, выпавшими на его долю в эпоху военного коммунизма, Ходасевич резко отрицательно отнесся к НЭПу. Позднее он зорко угадал ложь и лицемерие сталинской диктатуры.
Жизнь в Париже
С апреля 1925 г. Ходасевич и Берберова обосновываются в Париже. Поэт сотрудничает здесь в газетах «Дни», «Последние новости» и «Возрождение», а также в журнале «Современные записки», выступая качестве литературного критика и рецензента. Писать стихи ему становится все труднее. По свидетельству Берберовой, он еще перед отъездом за границу говорил ей, что «писать может он только в России, что он не может быть без России, а между тем не может ни жить, ни писать в России». В 1927 г. Ходасевич издает последний итоговый сборник своих стихов, после чего почти исключительно обращается к прозе. В апреле 1932 г., через два года поле того как «Современные записки» отмечают 25-летие литературной деятельности Ходасевича, он расходится с Берберовой и в 1933 г. женится на племяннице писателя М. Алданова О. Б. Марголиной (погибшей после смерти Ходасевича в нацистском концентрационном лагере).
Смерть Ходасевича
В последние годы жизни Ходасевич тяжело болеет. Скончался он от рака в возрасте 53 лет, 14 июня 1939 г. в одной из парижских клиник. О. Б. Марголина и Н. Н. Берберова находились рядом с поэтом в последние дни болезни. 16 июня состоялось его отпевание в русской католической церкви на улице Франсуа Жерар. Похоронен поэт на Бийянкурском кладбище в Париже.
Ходасевич родился 16 (28) мая 1886 года в Москве. Его отец, Фелициан Иванович (ок. 1834-1911)был выходцем из литовской обедневшей дворянской семьи, учился в Академии Художеств. Попытки молодого Фелициана зарабатывать на жизнь трудом художника не удались, и он стал фотографом, работал в Туле и Москве, в частности, фотографировал Льва Толстого, и, наконец, открыл в Москве магазин фотографических принадлежностей. Жизненный путь отца точно изложен в стихотворении Ходасевича "Дактили": "Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,/ Бруни его обучал мягкою кистью водить…/Ставши купцом по нужде - никогда ни намеком, ни словом /Не поминал, не роптал. Только любил помолчать…"
Мать поэта, Софья Яковлевна (1846-1911), была дочерью известного еврейского литератора Якова Александровича Брафмана (1824-1879), впоследствии перешедшего в православие (1858) и посвятившего дальнейшую жизнь т. н. "реформе еврейского быта" с христианских позиций. Несмотря на это, Софья Яковлевна была отдана в польскую семью и воспитывалась ревностной католичкой. В католичество был крещен и сам Ходасевич.
Старший брат поэта, Михаил Фелицианович (1865-1925) стал известным адвокатом, его дочь, художница Валентина Ходасевич (1894-1970), в частности, написала портрет своего дяди Владислава. Поэт жил в доме брата во время учёбы в университете и в дальнейшем, вплоть до отьезда из России, поддерживал с ним теплые отношения.
В Москве одноклассником Ходасевича по Третьей московской гимназии был Александр Яковлевич Брюсов, брат поэта Валерия Брюсова. На год старше Ходасевича учился Виктор Гофман, сильно повлиявший на мировоззрение поэта. По окончании гимназии Ходасевич поступил в Московский университет - сначала (в 1904 году)на юридический факультет, а осенью 1905 перешел на историко-филологический факультет, где учился с перерывами до весны 1910, но курса не окончил. С середины 1900-х Ходасевич находится в гуще литературной московской жизни: посещает Валерия Брюсова и телешовские "среды", Литературно-художественный кружок, вечеринки у Зайцевых, печатается в журналах и газетах, в том числе "Весах" и "Золотом руне".
В 1905 году он женится на Марине Эрастовне Рындиной. Брак был несчастливым - уже в конце 1907 года они расстались. Часть стихотворений из первой книги стихов Ходасевича "Молодость" (1908) посвящена именно отношениям с Мариной Рындиной. По воспоминаниям Анны Ходасевич (Чулковой) поэт в эти годы "был большим франтом", Дону-Аминадо Ходасевич запомнился "в длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных темных глаз, прямой, неправдоподобно худой…".
В 1910-11 годах Ходасевич страдал болезнью легких, что явилось поводом к его поездке с друзьями (М.Осоргиным, Б.Зайцевым, П.Муратовым и его супругой Евгенией и др.) в Венецию, пережил любовную драму с Е.Муратовой и смерть с интервалом в несколько месяцев обоих родителей. С конца 1911 у поэта установились близкие отношения с младшей сестрой поэта Георгия Чулкова - Анной Чулковой-Гренцион (1887-1964): в 1917 году они обвенчались.
Следующая книга Ходасевича вышла только в 1914 году и называлась "Счастливый домик". За шесть лет, прошедшие от написания "Молодости" до "Счастливого домика", Ходасевич стал профессиональным литератором, зарабатывающим на жизнь переводами, рецензиями, фельетонами и др. В годы 1-й мировой войны получивший "белый билет" по состоянию здоровья поэт сотрудничает в "Русских ведомостях", "Утре России", в 1917 - в "Новой жизни". Из-за туберкулеза позвоночника лето 1916 и 1917 годов провел в Коктебеле у поэта М.Волошина.
1917-1939 годы
В 1917 году Ходасевич с восторгом принимает Февральскую революцию и поначалу соглашается сотрудничать с большевиками после Октябрьской революции, но быстро приходит к выводу, что "при большевиках литературная деятельность невозможна", и решает "писать разве лишь для себя". В 1918 году совместно с Л.Яффе издаёт книгу "Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии"; работает секретарем третейского суда, ведет занятия в литературной студии московского Пролеткульта. В 1918-19 служит в репертуарной секции театрального отдела Наркомпроса, в 1918-20 заведует московским отделением издательства "Всемирная литература", основанного М.Горьким. Принимает участие в организации книжной лавки на паях (1918-19), где известные писатели (Осоргин, Муратов, Зайцев, Б.Грифцов и др.) лично дежурили за прилавком. В марте 1920 года из-за голода и холода заболевает острой формой фурункулеза и в ноябре перебрается в Петроград, где получает с помощью М.Горького паек и две комнаты в писательском общежитии (знаменитом "Доме искусств", о котором впоследствиии напишет очерк "Диск").
В 1920 году выходит его сборник "Путём зерна" с одноименным заглавным стихотворением, в котором есть такие строки о 1917-м годе: "И ты, моя страна, и ты, её народ, / Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год". В это время его стихи, наконец, становятся широко известны, его признают одним из первых современных поэтов. Тем не менее, 22 июня 1922 года Ходасевич вместе с поэтессой Ниной Берберовой (1901-1993), с которой знакомится в декабре 1921 года, покидает Россию и через Ригу попадает в Берлин. В том же году выходит его сборник "Тяжёлая лира".
В 1922-1923 годах, живя в Берлине, много общается с Андреем Белым, в 1922-1925 (с перерывами) живёт в семье М.Горького, которого высоко ценил как личность (но не как писателя), признавал его авторитет, видел в нем гаранта гипотетического возвращения на родину, но знал и слабые свойства характера Горького, из которых самым уязвимым считал "крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное воздействие как на его творчество, так и на всю его жизнь". В это же время Ходасевич и Горький основывают (при участии В.Шкловского) и редактируют журнал "Беседа" (вышло шесть номеров), где печатались советские авторы.
К 1925 году Ходасевич и Берберова осознают, что возвращение в СССР, а главное, жизнь там для них теперь невозможна. Ходасевич публикует в нескольких изданиях фельетоны о советской литературе и статьи о деятельности ГПУ за границей, после чего советская пресса обвиняет поэта в "белогвардейщине". В марте 1925 советское посольство в Риме отказало Ходасевичу в продлении паспорта, предложив вернуться в Москву. Он отказался, окончательно став эмигрантом.
В 1925 году Ходасевич и Берберова переезжают в Париж, поэт печатается в газетах "Дни" и "Последние новости", откуда уходит по настоянию П.Милюкова. С февраля 1927 до конца жизни возглавляет литературный отдел газеты "Возрождение". В том же году выпускает "Собрание стихов" с новым циклом "Европейская ночь". После этого Ходасевич практически перестаёт писать стихи, уделяя внимание критике, и вскоре становится ведущим критиком литературы русского зарубежья. В качестве критика ведёт полемику с Г.Ивановым и Г.Адамовичем, в частности, о задачах литературы эмиграции, о назначении поэзии и ее кризисе. Совместно с Берберовой пишет обзоры советской литературы (за подписью "Гулливер"), поддерживает поэтическую группу "Перекрёсток", высоко отзывается о творчестве В.Набокова, который становится его другом.
С 1928 Ходасевич работал над мемуарами: они вошли в книгу "Некрополь. Воспоминания" (1939) - о Брюсове, Белом, близком друге молодых лет поэте Муни, Гумилеве, Сологубе, Есенине, Горьком и др. Пишет биографическую книгу "Державин", но намерение написать биографию Пушкина Ходасевич оставил из-за ухудшения здоровья ("Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего", - писал он 19.7.1932 Берберовой, ушедшей в апреле от Ходасевича к Н.Макееву). В 1933 он женился на Ольге Марголиной(1890-1942), погибшей впоследствии в Освенциме.
Положение Ходасевича в эмиграции было тяжёлым, жил он обособленно, шумному Парижу предпочитал пригороды, его уважали как поэта и наставника поэтической молодежи, но не любили. Умер Владислав Ходасевич 14 июня 1939 года в Париже, после операции. Похоронен в предместье Парижа на кладбище Булонь-Бьянкур.
Основные черты поэзии и личности
Чаще всего к Ходасевичу применяли эпитет "желчный". Максим Горький в частных беседах и письмах говорил, что именно злость - основа его поэтического дара. Все мемуаристы пишут о его жёлтом лице. Он и умирал - в нищенской больнице, в раскалённой солнцем стеклянной клетке, едва завешанной простынями, - от рака печени, мучаясь непрестанными болями. За два дня до смерти он сказал своей бывшей жене, писательнице Нине Берберовой: "Только тот мне брат, только того могу я признать человеком, кто, как я, мучился на этой койке". В этой реплике весь Ходасевич. Но, возможно, все казавшееся в нем терпким, даже жёстким, было только его литературным оружием, кованой бронёй, с которой он настоящую литературу защищал в непрерывных боях. Желчности и злобы в его душе неизмеримо меньше, чем страдания и жажды сострадания. В России XX в. трудно найти поэта, который бы так трезво, так брезгливо, с таким отвращением взирал на мир - и так строго следовал в нем своим законам, и литературным, и нравственным. "Я считаюсь злым критиком, - говорил Ходасевич. - А вот недавно произвёл я „подсчёт совести", как перед исповедью… Да, многих бранил. Но из тех, кого бранил, ни из одного ничего не вышло".
Ходасевич конкретен, сух и немногословен. Кажется, что он говорит с усилием, нехотя разжимая губы. Может быть, краткость стихов Ходасевича, их сухой лаконизм - прямое следствие небывалой сосредоточенности, самоотдачи и ответственности. Вот одно из его самых лаконичных стихотворений:
Лоб -
Мел.
Бел
Гроб.
Спел
Поп.
Сноп
Стрел -
День
Свят!
Склеп
Слеп.
Тень -
В ад
Но его сухость, желчность и немногословность оставались лишь внешними. Так говорил о Ходасевиче его близкий друг Юрий Мандельштам:
На людях Ходасевич часто бывал сдержан, суховат. Любил отмалчиваться, отшучиваться. По собственному признанию - "на трагические разговоры научился молчать и шутить". Эти шутки его обычно без улыбки. Зато, когда он улыбался, улыбка заражала. Под очками "серьёзного литератора" загорались в глазах лукавые огоньки напроказничавшего мальчишки. Чужим шуткам также радовался. Смеялся, внутренне сотрясаясь: вздрагивали плечи. Схватывал налету остроту, развивал и дополнял её. Вообще остроты и шутки, даже неудачные, всегда ценил. "Без шутки нет живого дела", - говорил он не раз.
Нравились Ходасевичу и мистификации. Он восхищался неким "не пишущим литератором", мастером на такие дела. Сам он применял мистификацию, как литературный приём, через некоторое время разоблачал её. Так он написал несколько стихотворений "от чужого имени" и даже выдумал забытого поэта XVIII века Василия Травникова, сочинив за него все его стихотворения, за исключением одного ("О сердце, колос пыльный"), принадлежащего перу друга Ходасевича Муни.(Киссин Самуил Викторович 1885-1916) Поэт читал о Травникове на литературном вечере и напечатал о нем исследование(1936). Слушая читаемые Ходасевичем стихотворения, просвещённое общество испытывало и смущение, и удивление, ведь Ходасевич открыл бесценный архив крупнейшего поэта XVIII века. На статью Ходасевича появился ряд рецензий. Никто не мог и вообразить, что никакого Травникова нет на свете.
Влияние символизма на лирику Ходасевича
Неукорененность в российской почве создала особый психологический комплекс, который ощущался в поэзии Ходасевича с самой ранней поры. Ранние стихи его позволяют говорить о том, что он прошёл выучку Брюсова, который, не признавая поэтических озарений, считал, что вдохновение должно жёстко контролироваться знанием тайн ремесла, осознанным выбором и безупречным воплощением формы, ритма, рисунка стиха. Юноша Ходасевич наблюдал расцвет символизма, он воспитался на символизме, рос под его настроениями, освещался его светом и связывается с его именами. Понятно, что молодой поэт не мог не испытывать его влияния, пусть даже ученически, подражательно. "Символизм и есть истинный реализм. И Андрей Белый, и Блок говорили о ведомой им стихии. Несомненно, если мы сегодня научились говорить о нереальных реальностях, самых реальных в действительности, то благодаря символистам" - говорил он. Ранние стихи Ходасевича символизмом пропитаны и зачастую отравлены:
Странник прошёл, опираясь на посох –
Едет пролётка на красных колёсах –
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре –
Мне непременно припомнишься ты.
Чтоб не случилось на суше, на море
Или на небе, – мне вспомнишься ты.
На этом пути повторения банальностей и романтических поз, воспевания роковых женщин и адских страстей Ходасевич, с его природной желчностью и язвительностью, не избегал иногда штампов, свойственных поэзии невысокого полёта:
И снова ровен стук сердец;
Кивнув, исчез недолгий пламень,
И понял я, что я – мертвец,
А ты лишь мой надгробный камень.
Но все же Ходасевич всегда стоял особняком. В автобиографическом фрагменте "Младенчество" 1933 г. он придаёт особое значение тому факту, что "опоздал" к расцвету символизма, "опоздал родиться", тогда как эстетика акмеизма осталась ему далёкой, а футуризм был решительно неприемлем. Действительно, родиться в тогдашней России на шесть лет позже Блока означало попасть в другую литературную эпоху.
Сборник "Молодость"
Первую свою книгу "Молодость" Ходасевич издал в 1908 г. в издательстве "Гриф". Так говорил он о ней позже: "Первая рецензия о моей книге запомнилась мне на всю жизнь. Я выучил её слово в слово. Начиналась она так: "Есть такая гнусная птица гриф. Питается она падалью. Недавно эта симпатичная птичка высидела новое тухлое яйцо". Хотя в целом книга была встречена доброжелательно.
В лучших стихах этой книги он заявил себя поэтом слова точного, конкретного. Впоследствии примерно так относились к поэтическому слову акмеисты, однако свойственное им упоение радостью, мужественностью, любовью совершенно чуждо Ходасевичу. Он остался стоять в стороне от всех литературных течений и направлений, сам по себе, "всех станов не боец". Ходасевич вместе с М. И. Цветаевой, как он писал "выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не примкнули, остались навек одинокими, „дикими". Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть".
Чувство безнадёжной чужеродности в мире и непринадлежности ни к какому лагерю выражено у Ходасевича ярче, чем у кого-либо из его современников. Он не заслонялся от реальности никакой групповой философией, не отгораживался литературными манифестами, смотрел на мир трезво, холодно и сурово. И оттого чувство сиротства, одиночества, отверженности владело им уже в 1907 г.:
Кочевий скудных дети злые,
Мы руки греем у костра...
Молчит пустыня. В даль без звука
Колючий ветер гонит прах, –
И наших песен злая скука
Язвя кривится на губах.
В целом, однако, "Молодость" - сборник ещё не зрелого поэта. Будущий Ходасевич угадывается здесь разве что точностью слов и выражений да скепсисом по поводу всего и вся.
Сборник "Счастливый домик"
Гораздо больше от настоящего Ходасевича - во всяком случае, от его поэтической интонации - в сборнике "Счастливый домик". Рваная, рубленая интонация, которую начинает использовать в своих стихах Ходасевич, предполагает то открытое отвращение, с которым он бросает в лицо времени эти слова. Отсюда и несколько ироническое, желчное звучание его стиха.
О скука, тощий пес, взывающий к луне!
Ты – ветер времени, свистящий в уши мне!
Поэт на земле подобен певцу Орфею, вернувшемуся в опустевший мир из царства мертвых, где навсегда потерял возлюбленную - Эвридику:
И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне –
Так в 1910 г., в "Возвращении Орфея", Ходасевич декларировал свою тоску по гармонии в насквозь дисгармоническом мире, который лишён всякой надежды на счастье и согласие. В стихах этого сборника слышится тоска по всепонимающему, всевидящему Богу, для которого и поет Орфей, но у него нет никакой надежды, что его земной голос будет услышан.
В "Счастливом домике" Ходасевич заплатил щедрую дань стилизации (что вообще характерно для серебряного века). Тут и отголоски греческой и римской поэзии, и строфы, которые заставляют вспомнить о романтизме XIX столетия. Но эти стилизации насыщены у него конкретными, зримыми образами, деталями. Так открывающее раздел стихотворение с характерным названием "Звезда над пальмою" 1916 г. заканчивается пронзительными строчками:
Ах, из роз люблю я сердцем лживым
Только ту, что жжет огнем ревнивым,
Что зубами с голубым отливом
Прикусила хитрая Кармен!
Рядом с миром книжным, "вымечтанным" существует и другой, не менее милый сердцу Ходасевича - мир воспоминаний его детства. "Счастливый домик" завершается стихотворением "Рай" - о тоске по раю детскому, игрушечному, рождественскому, где счастливому ребёнку во сне при¬виделся "ангел златокрылый".
Сентиментальность вкупе с желчностью и гордой непричастностью к миру стали отличительным знаком поэзии Ходасевича и определили её своеобразие в первые послереволюционные годы.
К этому времени у Ходасевича появляется два кумира. Он говорил: "Был Пушкин и был Блок. Все остальное - между!"
Сборник "Путём зерна"
Начиная со сборника "Путём Зерна", главной темой его поэзии станет преодоление дисгармонии, по существу неустранимой. Он вводит в поэзию прозу жизни - не выразительные детали, а жизненный поток, настигающий и захлёстывающий поэта, рождающий в нем вместе с постоянными мыслями о смерти чувство "горького предсмертья". Призыв к преображению этого потока, в одних стихах заведомо утопичен ("Смоленский рынок"), в других "чудо преображения" удаётся поэту ("Полдень"), но оказывается кратким и временным выпадением из "этой жизни". "Путём Зерна" писался в революционные 1917-1918 гг. Ходасевич говорил: "Поэзия не есть документ эпохи, но жива только та поэзия, которая близка к эпохе. Блок это понимал и недаром призывал „слушать музыку революции". Не в революции дело, а в музыке времени". О своей эпохе писал и Ходасевич. Рано появившиеся у поэта предчувствия ожидающих Россию потрясений побудили его с оптимизмом воспринять революцию. Он видел в ней возможность обновления народной и творческой жизни, он верил в её гуманность и антимещанский пафос, однако отрезвление пришло очень быстро. Ходасевич понимал, как затерзала, как погасила настоящую русскую литературу революция. Но он не принадлежал к тем, которые "испугались" революции. В восторге от неё он не был, но он и не "боялся" её. Сборник "Путём зерна" выражал его веру в воскресение России после революционной разрухи таким же путём, каким зерно, умирая в почве, воскресает в колосе:
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрёт и прорастёт.
Так и душа моя идёт путём зерна:
Сойдя во мрак, умрёт – и оживёт она.
И ты, моя страна, и ты, её народ,
Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год, –
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путём зерна.
Здесь Ходасевич уже зрелый мастер: он выработал собственный поэтический язык, а его взгляд на вещи, бесстрашно точный и болезненно сентиментальный, позволяет ему говорить о самых тонких материях, оставаясь ироничным и сдержанным. Почти все стихи этого сборника построены одинаково: нарочито приземлённо описанный эпизод - и внезапный, резкий, смещающий смысл финал. Так, в стихотворении "Обезьяна" бесконечно долгое описание душного летнего дня, шарманщика и печальной обезьянки внезапно разрешается строчкой: "В тот день была объявлена война". Это типично для Ходасевича - одной лаконической, почти телеграфной строкой вывернуть наизнанку или преобразить все стихотворение. Как только лирического героя посетило ощущение единства и братства всего живого на свете - тут же, вопреки чувству любви и сострадания, начинается самое бесчеловечное, что может произойти, и утверждается непреодолимая рознь и дисгармония в том мире, который только что на миг показался "хором светил и волн морских, ветров и сфер".
То же ощущение краха гармонии, поиск нового смысла и невозможность его (во времена исторических разломов гармония кажется утраченной навеки) становятся темой самого большого и самого, может быть, странного стихотворения в сборнике - "2 ноября" (1918 г.). Здесь описывается первый день после октябрьских боев 1917 г. в Москве. Говорится о том, как затаился город. Автор рассказывает о двух незначительных происшествиях: возвращаясь от знакомых, к которым ходил узнать, живы ли они, он видит в полуподвальном окне столяра, в соответствии с духом новой эпохи раскрашивающего красной краской только что сделанный гроб - видно, для одного из павших борцов за всеобщее счастье. Автор пристально вглядывается в мальчика, "лет четырёх бутуза", который сидит "среди Москвы, страдающей, растерзанной и падшей", - и улыбается самому себе, своей тайной мысли, тихо зреющей под безбровым лбом. Единственный, кто выглядит счастливо и умиротворённо в Москве 1917 г., - четырёхлетний мальчик. Только дети с их наивностью да фанатики с их нерассуждающей идейностью могут быть веселы в эти дни. "Впервые в жизни, - говорит Ходасевич, - "ни „Моцарт и Сальери", ни „Цыганы" в тот день моей не утолили жажды". Признание страшное, особенно в устах Ходасевича, всегда Пушкина боготворившего. Даже всеобъемлющий Пушкин не помогает вместить потрясения нового времени. Трезвый ум Ходасевича временами впадает в отупение, в оцепенение, машинально фиксирует события, но душа никак не отзывается на них. Таково стихотворение "Старуха" 1919 г.:
Лёгкий труп, окоченелый,
Простыней покрывши белой,
В тех же саночках, без гроба,
Милицейский увезёт,
Растолкав плечом народ.
Неречист и хладнокровен
Будет он, – а пару брёвен,
Что везла она в свой дом,
Мы в печи своей сожжём.
В этом стихотворении герой уже вполне вписан в новую реальность: "милицейский" не вызывает у него страха, а собственная готовность обобрать труп - жгучего стыда. Душа Ходасевича плачет над кровавым распадом привычного мира, над разрушением морали и культуры. Но поскольку поэт следует "путём зерна", то есть принимает жизнь как нечто не зависящее от его желаний, во всем пытается увидеть высший смысл, то и не протестует и не отрекается от Бога. У него и прежде было не самое лестное мнение о мире. И он полагает, что в грянувшей буре должен быть высший смысл, которого доискивался и Блок, призывавший "слушать музыку революции". Не случайно свой следующий сборник Ходасевич открывает стихотворением "Музыка" 1920 г.:
И музыка идёт как будто сверху.
Виолончель... и арфы, может быть...
...А небо
Такое же высокое, и так же
В нем ангелы пернатые сияют.
Эту музыку "совсем уж ясно" слы¬шит герой Ходасевича, когда колет дрова (занятие столь прозаическое, столь естественное для тех лет, что услышать в нем какую-то особую музыку можно было, лишь увидев в этой колке дров, в разрухе и катастрофе некий таинственный промысел Божий и непостижимую логику). Олицетворением такого промысла для символистов всегда была музыка, ничего не объясняющая логически, но преодолевающая хаос, а подчас и в самом хаосе обнаруживающая смысл и соразмерность. Пернатые ангелы, сияющие в морозном небе, - вот правда страдания и мужества, открывшаяся Ходасевичу, и с высоты этой Божественной музыки он уже не презирает, а жалеет всех, кто её не слышит.
Сборник "Тяжёлая лира"
В этот период поэзия Ходасевича начинает все больше приобретать характер классицизма. Стиль Ходасевича связан со стилем Пушкина. Но классицизм его - вторичного порядка, ибо родился не в пушкинскую эпоху и не в пушкинском мире. Ходасевич вышел из символизма. А к классицизму он пробился через все символические туманы, не говоря уже о советской эпохе. Все это объясняет техническое его пристрастие к "прозе в жизни и в стихах", как противовесу зыбкости и неточности поэтических "красот" тех времён.
И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.
В то же время из его поэзии начинает исчезать лиризм, как явный, так и скрытый. Ему Ходасевич не захотел дать власти над собою, над стихом. Лёгкому дыханию лирики предпочел он другой, "тяжёлый дар".
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер даёт.
И нет штукатурного неба,
И солнце в шестнадцать свечей.
На гладкие черные скалы
Стопы опирает – Орфей.
В этом сборнике появляется образ души. Путь Ходасевича лежит не через "душевность", а через уничтожение, преодоление и преображение. Душа, "светлая Психея", для него - вне подлинного бытия, чтобы приблизиться к нему, она должна стать "духом", родить в себе дух. Различие психологического и онтологического начала редко более заметно, чем в стихах Ходасевича. Душа сама по себе не способна его пленить и заворожить.
И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он – тебя?
Но в том-то и дело, что "простая душа" даже не понимает, за что её любит поэт.
И от беды моей не больно ей,
И ей не внятен стон моих страстей.
Она ограничена собою, чужда миру и даже её обладателю. Правда, в ней спит дух, но он ещё не рождён. Поэт ощущает в себе присутствие этого начала, соединяющего его с жизнью и с миром.
Поэт-человек изнемогает вместе с Психеей в ожидании благодати, но благодать не даётся даром. Человек в этом стремлении, в этой борьбе осуждён на гибель.
Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи –
Не станешь духом…
За редким исключением гибель - преображение Психеи - есть и реальная смерть человека. Ходасевич в иных стихах даже зовёт её, как освобождение, и даже готов "пырнуть ножом" другого, чтобы помочь ему. И девушке из берлинского трактира шлёт он пожелание - "злодею попасться в пустынной роще вечерком". В другие минуты и смерть ему не представляяется выходом, она лишь - новое и жесточайшее испытание, последний искус. Но и искус этот он принимает, не ища спасения. Поэзия ведёт к смерти и лишь сквозь смерть - к подлинному рождению. В этом онтологическая правда для Ходасевича. Преодоление реальности становится главной темой сборника "Тяжёлая лира".
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь –
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял – теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.
Приведённые семь строк насыщены сложными смыслами. Здесь издевка над будничной, новой ролью поэта: это уже не Орфей, а скорее городской сумасшедший, что-то бормочущий себе под нос у запертой двери. Но "Сам затерял - теперь ищи…" - строчка явно не только о ключах или пенсне в прямом смысле. Найти ключ к новому миру, то есть понять новую реальность, можно, только вырвавшись из неё, преодолев её притяжение.
Зрелый Ходасевич смотрит на вещи словно сверху, во всяком случае - извне. Безнадёжно чужой в этом мире, он и не желает в него вписываться. В стихотворении "В заседании" 1921 г. лирический герой пытается заснуть, чтобы снова увидеть в Петровском-Разумовском (там прошло детство поэта) "пар над зеркалом пруда", - хотя бы во сне встретиться с ушедшим миром.
Но не просто бегством от реальности, а прямым отрицанием её отзываются стихи Ходасевича конца 10-х - начала 20-х гг. Конфликт быта и бытия, духа и плоти приобретает небывалую прежде остроту. Как в стихотворении "Из дневника" 1921 г.:
Мне каждый звук терзает слух
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.
Прорежется – и сбросит прочь.
Изношенную оболочку,
Тысячеокий, – канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.
А я останусь тут лежать –
Банкир, заколотый опашем, –
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.
Ходасевич видит вещи такими, каковы они есть. Без всяких иллюзий. Не случайно именно ему принадлежит самый беспощадный автопортрет в русской поэзии:
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Естественная смена образов - чистого ребёнка, пылкого юноши и сегодняшнего, "желто-серого, полуседого" - для Ходасевича следствие трагической расколотости и ничем не компенсируемой душевной растраты, тоска о цельности звучит в этом стихотворении как нигде в его поэзии. "Все, что так нежно ненавижу и так язвительно люблю" - вот важный мотив "Тяжёлой лиры". Но "тяжесть" не единственное ключевое слово этой книги. Есть здесь и моцартовская лёгкость кратких стихов, с пластической точностью, единственным штрихом дающих картины послереволюционного, прозрачного и призрачного, разрушающегося Петербурга. Город пустынен. Но видны тайные пружины мира, тайный смысл бытия и, главное, слышна Божественная музыка.
О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?
И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи.
Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.
И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.
Звуки правдивее смысла - вот манифест поздней поэзии Ходасевича, которая, впрочем, не перестаёт быть рассудочно-чёткой и почти всегда сюжетной. Ничего темного, гадательного, произвольного. Но Ходасевич уверен, что музыка стиха важнее, значимее, наконец, достовернее его грубого одномерного смысла. Стихи Ходасевича в этот период оркестрованы очень богато, в них много воздуха, много гласных, есть чёткий и лёгкий ритм - так может говорить о себе и мире человек, "в Божьи бездны соскользнувший". Стилистических красот, столь любимых символистами, тут нет, слова самые простые, но какой музыкальный, какой чистый и лёгкий звук! По-прежнему верный классической традиции, Ходасевич смело вводит в стихи и неологизмы и жаргон. Как спокойно говорит поэт о вещах невыносимых, немыслимых - и, несмотря ни на что, какая радость в этих строчках:
Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живём.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.
И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умилённо слышу я
В нем заключённое биенье
Совсем иного бытия.
Так, провождая жизни скуку,
Любовно женщина кладёт
Свою взволнованную руку
На грузно пухнущий живот.
Образ беременной женщины (как и образ кормилицы) часто встречается в поэзии Ходасевича. Это не только символ живой и естественной связи с корнями, но и символический образ эпохи, вынашивающей будущее. "А небо будущим беременно", - писал примерно в то же время Мандельштам. Самое страшное, что "беременность" первых двадцати бурных лет страшного века разрешилась не светлым будущим, а кровавой катастрофой, за которой последовали годы НЭПа - процветание торгашей. Ходасевич понял это раньше многих:
Довольно! Красоты не надо!
Не стоит песен подлый мир...
И Революции не надо!
Её рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой – торговать.
Вотще на площади пророчит
Гармонии голодный сын:
Благих вестей его не хочет
Благополучный гражданин..."
Тогда же Ходасевич делает вывод о своей принципиальной неслиянности с чернью:
Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять
И твёрдо знаю, что народу
Моих творений не понять.
Впрочем, чернью Ходасевич считал лишь тех, кто тщится "разбираться в поэзии" и распоряжаться ею, тех, кто присваивает себе право говорить от имени народа, тех, кто его именем хочет править музыкой. Собственно народ он воспринимал иначе - с любовью и благодарностью.
Цикл "Европейская ночь"
Несмотря на это в эмигрантской среде Ходасевич долгое время ощущал себя таким же чужаком, как на оставленной родине. Вот что говорил он об эмигрантской поэзии: "Сегодняшнее положение поэзии тяжко. Конечно, поэзия и есть восторг. Здесь же у нас восторга мало, потому что нет действия. Молодая эмигрантская поэзия все жалуется на скуку - это потому, что она не дома, живёт в чужом месте, она очутилась вне пространства - а потому и вне времени. Дело эмигрантской поэзии по внешности очень неблагодарное, потому что кажется консервативным. Большевики стремятся к изничтожению духовного строя, присущего русской литературе. Задача эмигрантской литературы сохранить этот строй. Эта задача столь же литературная, как и политическая. Требовать, чтобы эмигрантские поэты писали стихи на политические темы, - конечно, вздор. Но должно требовать, чтобы их творчество имело русское лицо. Нерусской поэзии нет и не будет места ни в русской литературе, ни в самой будущей России. Роль эмигрантской литературы - соединить прежнее с будущим. Надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и - в новой форме - будущим".
Тема "сумерек Европы", пережившей крушение цивилизации, создававшейся веками, а вслед за этим - агрессию пошлости и обезличенности, главенствует в поэзии Ходасевича эмигрантского периода. Стихи "Европейской ночи" окрашены в мрачные тона, в них господствует даже не проза, а низ и подполье жизни. Ходасевич пытается проникнуть в "чужую жизнь", жизнь "маленького человека" Европы, но глухая стена непонимания, символизирующего не социальную, а общую бессмысленность жизни отторгает поэта. "Европейская ночь" - опыт дыхания в безвоздушном пространстве, стихи, написанные уже почти без расчёта на аудиторию, на отклик, на сотворчество. Это было для Ходасевича тем более невыносимо, что из России он уезжал признанным поэтом, и признание к нему пришло с опозданием, как раз накануне отъезда. Уезжал в зените славы, твёрдо надеясь вернуться, но уже через год понял, что возвращаться будет некуда (это ощущение лучше всего сформулировано Мариной Цветаевой: "…можно ли вернуться в дом, который - срыт?"). Впрочем, ещё перед отъездом написал:
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке
(речь шла о восьми томиках Пушкина). Быть может, изгнание для Ходасевича было не так трагично, как для других, - потому что он был чужаком, а молодость одинаково невозвратима и в России, и в Европе. Но в голодной и нищей России - в её живой литературной среде - была музыка. Здесь музыки не было. В Европе царила ночь. Пошлость, разочарование и отчаяние были ещё очевиднее. Если в России пусть на какое-то время могло померещиться, что "небо будущим беременно", то в Европе надежд никаких не было - полный мрак, в котором речь звучит без отклика, сама для себя.
Муза Ходасевича сочувствует всем несчастным, обездоленным, обречённым - он и сам один из них. Калек и нищих в его стихах становится больше и больше. Хотя в самом главном они не слишком отличаются от благополучных и процветающих европейцев: все здесь обречены, все обречено. Какая разница - духовное, физическое ли увечье поразило окружающих.
Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти сума,
Когда с беременной женой
Идёт безрукий в синема.
За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошённым рукавом?
В этих строках куда больше сочувствия, чем ненависти.
Чувствуя вину перед всем миром, лирический герой Ходасевича ни на минуту не отказывается от своего дара, возвышающего и унижающего его одновременно.
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг - а иной.
За своё "парение" поэт платит так же, как самоубийца, бросившийся из окна вниз головой, - жизнью.
В 1923 г. Ходасевич пишет стихотворение "Встаю расслабленный с постели…" - о том, как сквозь его сознание всю ночь летят "колючих радио лучи", в хаосе темных видений он ловит предвестие гибели, всеевропейской, а может быть, и мировой катастрофы. Но те, кому эта катастрофа грозит, сами не знают, в какой тупик летит их жизнь:
О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы ещё лучами
Неощутимо пронзены!